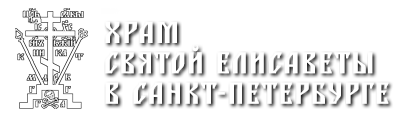Концепция II: Мессия как Сын Божий
Выражение «Сын Божий» служит в Новом Завете для указания божественности Мессии. Наиболее прямо это исповедано Петром в ответ на вопрос Иисуса (Мф 16,16): Ты ecu Христос Сын Бога живаго («Ты—Мессия, Сын Бога живого»). За этими словами видно, что они исходят из уже готового учения о том, что Мессия должен быть Сыном Божиим—и в данном случае Петр говорит Иисусу, что он признаёт в Нем этого Мессию.
Еще 30-40 лет назад существовал почти полный научный консенсус в вопросе о том, что представление о Мессии как Сыне Божием—нововведение христианства. Теперь консенсус изменился на противоположный: только незнакомые с современной научной литературой авторы время от времени повторяют этот бесповоротно опровергнутый тезис. В действительности, и это положение христианского богословия оказывается старше христианства.
В Новом Завете постоянно используется еще один мессианский титул: «Сын Человеческий». Он встречается в соответствующей богословской традиции еще в предхристианское время, не позднее II в. до н. э„ и уже в библейской книге пророка Даниила означает, как это позже будет и в Новом Завете, божественного Мессию: парадоксальным образом, выражение «Сын Человеческий» стало означать «Сына Божия». Мы не можем сейчас углубляться в слишком подробный разбор истории этих мессианских титулов—истории, в которой далеко не по всем вопросам к настоящему времени сложился научный консенсус, а вместо этого обратимся к еще одному кумранскому документу, на сей раз не на еврейском, а на арамейском языке.
Это так называемый 4QMess Аг—что означает «мессианский текст на арамейском языке из четвертой пещеры Кумрана». Здесь в строке 4QMess Аг I, 10 мы читаем о Мессии, что он—«избранник Божий, порождение Его и дух дыхания Его». «Порождение» (арамейск. mwld) буквально и означает «тот (или то), кого (или что) Он родил». Сходство с христианским богословием станет еще более разительным, если вспомнить, что почти все христианские тексты до конца II в.
н. э. употребляют слова «сын» и «дух» как синонимы, эксплицитно отождествляя их (об этом мы будем говорить при обзоре учения мужей апостольских и апологетов)—именно так, как это сделано в кумранском документе.
Здесь появляется знакомая нам по Евангелию «двусубъект- ность» (а то и «трисубъектность») в едином Боге: Мессия—не просто «избранник», избранный среди людей, но и «порождение» и «дух» Самого Бога, то есть нечто, необходимо присущее Богу. Но Богу ничто не может быть присуще необходимо, если это не Он Сам.
Библиография: F. GARCIA MARTINEZ, Qumran and Apocalyptic. Studies in the Aramaic Texts from Qumran (Leiden—N. Y.—Koln, 1992) (Studies on the Texts of the Desert of Judah, 9); Тексты Кумрана. Вып. 1 / Пер. с древнеевр. и арамейского, введение и комм. И. Д. Амусина (М., 1971) (Памятники письменности Востока, XXXIII, 1).
1.6.3 Краткие выводы
Мы рассмотрели только две концепции из той традиции Священнического богословия, к которой восходит христианство. Уже
из них просматриваются базовые «уравнения» будущего раннехристианского богословия: Мессия = община = эсхатологический и небесный Храм Божий = Сын Божий = Бог. Некоторые другие концепции, которые мы не успели рассмотреть, могли бы сделать картину еще более ясной: например, концепция Бога как Своего Собственного Храма (Небесный Храм Божий, вечное жилище Божие = Бог). Но уже и так видно, что в богословии Священнической традиции еще прежде христианства были подготовлены основные концепции будущего христианского богословия. Перечислим главные из них. —«Многосубъектность» единого Бога, —Мессия как Бог (Сын Божий), —Мессия как Храм Божий, —Община как Храм Божий.
Вероятно, к этому ряду нужно добавить еще одну концепцию, отчетливо выраженную в новозаветных текстах, логически следующую из уже перечисленных концепций, но пока что не прослеженную на дохристианском материале: —Община как Тело Мессии.